Тельца Краузе: открытие, меняющее представление о сексуальном удовольствии
Нейробиологи наконец разгадали секрет самых чувствительных зон человеческого тела.
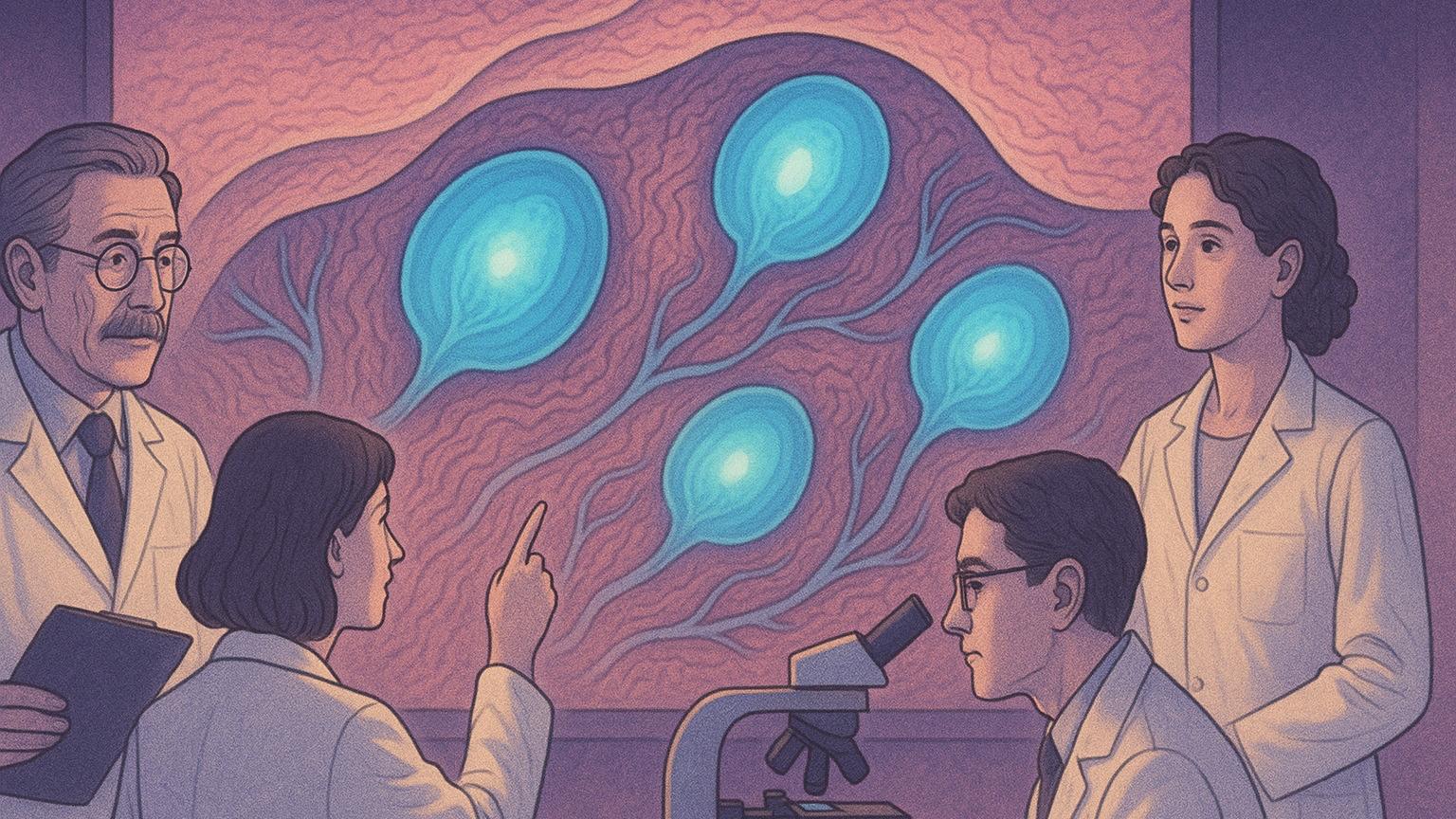
Разумеется, это не семья и не его дети. Эти клетки эволюционировали миллионы лет, чтобы стать интерфейсом между млекопитающими и окружающим миром. Но Гинти, заведующий кафедрой нейробиологии Гарвардской медицинской школы, изучает сенсорные нейроны осязания уже более двадцати лет и знает их, возможно, лучше всех. Он разобрался в их электрическом языке, выяснил, какие силы возбуждают их, проследил пути, по которым они проходят от кожи к мозгу, и с помощью генной инженерии и химических меток превратил их в красочные портреты на стенах своего кабинета.

«Дэвид Гинти — император осязания», — говорит Александр Чеслер из Национального института здоровья США.
«Стоит взглянуть на его список публикаций — и сразу восклицаешь: “О боже!” — добавляет Дэвид Хьюз из Университета Глазго. — Он невероятно продуктивен, и все его статьи публикуются в журналах самого высокого уровня».
И хотя его открытия важны для учебников по биологии, коллеги чаще всего вспоминают именно его изображения. Эти фотографии словно с другой планеты, больше напоминают глубоководных существ, чем нейроны. Их причудливые формы объясняют, почему ощущения от прикосновений так разнообразны: звонок телефона, тёплый ветерок, поцелуй, дождь, объятие — всё ощущается по-разному именно благодаря этим клеткам. И осознание того, что они повсюду в нашем теле, может по-настоящему захватить дух.
«Каждый из этих нейронов рассказывает свою историю, — говорит Гинти. — У каждого уникальная структура и своя задача. Всё дело в том, как форма определяет функцию. Именно в этом заключается красота».
Учёные и философы изучали прикосновение веками. Аристотель считал, что осязание у людей развито сильнее, чем у других существ, и это объясняет наш интеллект. Сегодня мы знаем, что морские львы, пауки и звездоносы чувствуют то, что для нас недоступно. Но всё равно Аристотель был прав: прикосновение — действительно особенное чувство.
Из всех чувств именно система осязания — самая сложная. Если зрение и слух концентрируются в глазу и ухе, то нейроны, отвечающие за прикосновение, разбросаны по всему телу. Они тянутся от кластеров у позвоночника, ветвясь в кожу и внутренние органы, как щупальца медуз. Каждый аксон заканчивается под поверхностью кожи особой структурой, предназначенной для восприятия определённого вида прикосновений.
Зрение и слух реагируют на свет и звук, а прикосновение — на целый калейдоскоп сигналов: давление, вибрации, тёплый ветер, пощёчину, жжение от перца или холод от мяты. Из этого набора ощущений рождаются восприятие боли, зуда, тепла, холода, мягкости, твёрдости, а также осознание положения тела в пространстве.
Ещё в XIX веке анатомы заметили в коже странные структуры — плоские, в виде луковицы или спирали. Они предположили, что это сенсоры. В XX веке физиологи доказали это, подключая электроды к отдельным нейронам и проверяя, как те реагируют на уколы, нажатия, щекотку. Так учёные начали сопоставлять ощущения с конкретными нейронными окончаниями.
И хотя удалось классифицировать более 15 типов сенсорных нейронов по их скорости реакции и другим признакам, этого было недостаточно. Многие окончания были слишком малы, чтобы их можно было различить с помощью прежних методов. «Это был настоящий джунгли, — вспоминает Гинти. — От 12 до 15 разных типов нейронов иннервируют один и тот же участок кожи. Разобрать их было невозможно».
Он начал с простого вопроса: что становится с нейронами в процессе развития? Как понять, во что они превращаются? Ответ пришёл с развитием генной инженерии. К 2007 году его лаборатория создала десятки генетически модифицированных линий мышей, у которых можно было активировать или помечать один тип сенсорного нейрона. Это позволило буквально подсветить нейроны под микроскопом.
Одним из первых шагов стало исследование волосистой кожи. До этого лучше всего были изучены безволосые участки — ладони, губы, подошвы. А вот как мы ощущаем движение волоса, было неясно. Оказалось, что каждый тип волоса — это ещё и сенсор. Группа Гинти обнаружила, что одни нейроны образуют «венчики» вокруг луковиц жёстких волос, позволяя точно определять направление касания. Другие — обвивают тонкие волосы и распознают более нежные прикосновения. Есть даже нейроны, связанные с ощущением ласки.
Открытие 2011 года стало настоящим прорывом: один и тот же волос может передавать целую палитру ощущений. Позже они обнаружили и другие окончания, которые словно лассо обвивают множество волос одновременно — до 180 штук — и реагируют на лёгкое поглаживание. Раньше такие нейроны считали болевыми.
Гинти также заинтересовался сексуальным прикосновением. В области гениталий, губ и сосков были обнаружены загадочные тельца Краузе, которые, как выяснилось в 2024 году, отвечают за возбуждение. Они чувствуют вибрации частотой от 40 до 80 Гц — именно в этом диапазоне работают большинство вибраторов.
Но любимыми у Гинти остаются тельца Пачини — сенсоры, реагирующие на вибрации до 1000 Гц. Они находятся глубоко под кожей и рядом с суставами. Его команда доказала, что эти нейроны активируются даже от слабых вибраций, и передают сигналы не в кору мозга, как остальные, а в отдел, отвечающий за слух. Поэтому мы, возможно, и «чувствуем» музыку телом.
За последние годы учёные выделили не менее 18 генетических типов нейронов, а учитывая разные формы окончаний, их может быть больше полусотни. Одни и те же нейроны работают и в коже, и в кишечнике — например, ощущая его растяжение. Картина по-прежнему неполная: остаются вопросы о нейронах в сердце, лёгких, желудке, почках и их роли в боли, усталости или выработке молока.
Раньше считалось, что сигналы осязания идут по прямой линии в кору мозга, где и происходит восприятие. Но исследования Гинти показали: большая часть обработки происходит уже в спинном мозге и стволе мозга. Это меняет весь взгляд на то, как мы ощущаем мир.
Практическая польза от таких знаний очевидна: более точные обезболивающие, лечение расстройств сенсорной обработки, улучшенные протезы. Но сам Гинти говорит, что его движет нечто другое — восхищение. «Недавно я сидел в зале симфонического оркестра Бостона, положил руки на подлокотник, закрыл глаза — и просто почувствовал музыку».

